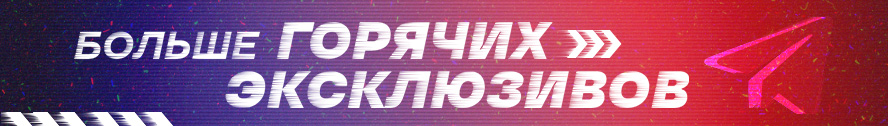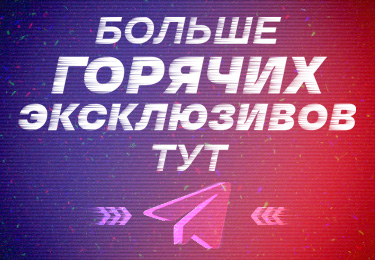«Ваши Новости» продолжают серию интервью с выдающимися деятелями российской культуры. И сегодня у нас в гостях Сергей Анатольевич Носов – петербургский поэт, драматург и прозаик, заслуживший в свое время репутацию главного летописца России 90-х. Его блестящий стиль, фирменная ирония и фантасмагорический инстинкт, генетически присущий истинно питерскому автору, сделали его, как говорят редакторы, «писателем для писателей», якобы слишком сложным и тонким для масс. Конечно же, как и в случае с любым гением места, это лишь литературоведческое клише. На самом деле любой, кому в руки попала книга Сергея Носова, по прочтении ставит ее на полку избранное.

Сергей Анатольевич Носов
«ВН»: – Сергей Анатольевич, у нас издание очень литературное. Публикуется много писателей (начиная с Левенталя, кончая молодым А. Пелевиным). И читают нас писатели тоже много. Поэтому первый вопрос цеховой. Ваш прозаический дебют состоялся довольно поздно. Хотя как драматург вы заявились вовремя. Почему «тянули» с первым романом?
– Два первых романа я завершил, когда мне стукнуло сорок, – писал их параллельно и долго, несколько лет, они и публиковались почти одновременно. Но до этого у меня уже были две книги малой прозы. Пьесы шли. А начинал когда-то со стихов, на вечерах поэтических выступал, Виктор Топоров приглашал на свои, он тогда в Ленинграде был, простите за оксюморон, видной теневой фигурой – в силу своей горделивой независимости и высокоумности. Потом взял мои стихи в антологию «Поздние петербуржцы». Только поэтическую книгу – и со стихами тех лет тоже – я издал недавно, а в те годы не сподобился. Вот с этим действительно «тянул». Ну так что ж, есть у меня такая манера – «тянуть». Я и сейчас «тяну». Например, с публикациями. А иногда задумываюсь, надо ли это вообще.
«ВН»: – Поправьте меня, пожалуйста, если я не прав. Вы окончили Литературный институт имени Горького в 1988 году. Это плохие годы. Интеллектуальная элита раскололась. Союз писателей СССР раскололся. Появилось «Письмо 74». На чьей стороне вы были в том споре? Как вспоминаете те годы?
– 1988 год – еще вполне приличное время. Нет, до «Письма 74» еще два года. Еще не введены талоны на продукты – до этого год. В стране предполагают усовершенствовать социализм, ни о какой «шоковой терапии» и мыслей нет. 1000-летие крещения Руси громко отметили, слово Бог стали писать с большой буквы. «Чевенгур» напечатали и прочее, прежде запрещенное и разное по качеству. В киоски «Созпечати» по утрам очереди. Чтобы туда работать продавцом, надо кому-то заплатить на лапу. Все всё читали, о литературе говорили на каждом шагу. Словом «перестройка» еще не объелись, «гласностью» гордились: вот мы какие замечательные, у нас теперь гласность! А раньше был застой!.. 88-й – год эйфории. Надежды были еще. Но крыши уже тогда у людей сносило. И чем дальше, тем больше. Конец перестройки, безумные девяностые… Вот меня это больше всего и интересовало, отчего у людей крышу сносит. Как человек перестает быть собой и становится кем-то на себя непохожим. Что вообще с людьми происходит.

Москва, 90-е. Фото: Getty
Вообще-то у меня много об этом – и в пьесах, и в прозе. Рассказы тех лет (и о том времени) переизданы в книге «Закрытие темы». Там же памфлет «Гуманистический идеал антропофагии», подтолкнувший к написанию романа. Но если кому интересно, проще всего понять, что думаю о 90-х, это погуглить эссе «Обладая коллекцией», напечатанное в журнале «Сеанс», – есть в интернете, легко находится. Там я напоминаю, например, что синоним «шоковой терапии», нам открыто обещанной и с радостью ожидавшейся нами, это «электросудорожная терапия», но с Россией получилось еще круче, ее просто поместили на электрический стул (с подробностями). Объясняю, почему избирательные бюллетени не опускаю в урну, но забираю в коллекцию, и почему в те годы единственным достойным ответом на вызовы фантасмагорической реальности посчитал юродство. И что история всех обманет. «История – это непобедимый игрок, всегда прикидывающейся новичком».
«ВН»: – Если раньше противоречия в официальной писательской среде были по линии деревенщики/горожане, то в 90-е уже появились фракции: патриоты/демократы, позднее – либералы/патриоты. Сегодня мы видим исход этого «идеологического» конфликта. Как вы считает, в современных условиях наша отечественная раздвоенность на западников и почвенников имеет право сохраняться как система национального мышления?
– Все эти оппозиции хорошо работают в первом приближении. Так же, кстати, как и деление на официальную и неофициальную литературу. При более внимательном рассмотрении реальность оказывается сложнее. Ну а для упрощения общей картины может сойти. Сам я стараюсь этих метафор по возможности избегать. А что, если не западник, то обязательно почвенник? А если не почвенник, то обязательно западник?.. Вспоминаю Петра Паламарчука, автора четырехтомной истории московских храмов «Сорок сороков» и неповторимо отточенной прозы, – как он, почвенник из почвенников по этой терминологии и одновременно (в те времена) ценитель Набокова, знаток культуры Запада, легко ставил в тупик «либерального» оппонента, не привыкшего иметь дело с «просвещенным консерватизмом». И не случалось ли становиться по-настоящему «западником» поэту Юрию Кузнецову (вот кого хочется назвать «восточником») в час помина «руин великих идей», разумеется, европейских: «Только русская память легка мне / И полна, как водой решето. / Но чужие священные камни, / Кроме нас, не оплачет никто»?

Сергей Анатольевич Носов
В свое время у нас в Петербурге, без всяких директив и организационных решений, само собой образовалось литературное содружество, принципиально беспартийных. Нас называли «петербургские фундаменталисты» – отчасти в шутку, отчасти не очень. А сблизило нас, очень разных и непохожих людей, простое желание говорить по-своему, как видим и понимаем происходящее, весело, зло, насмешливо называть вещи своими именами без поправок на господствующее общее мнение (правил балом тогда тот самый «либерализм» с его священными коровами и политкорректностью). Наля Подольского и Татьяны Москвиной уже нет в живых, но спросите Крусанова или Секацкого, западники они или почвенники, не уверен, что вопрос будет понят.
И еще о партийности. Замечательный петербургский поэт Геннадий Григорьев, с которым мы дружили с давних лет, так в одной из своих поэм сыронизировал над ситуацией, в которой нам пришлось оказаться после писательского раскола в 90-е годы: «Нас развели, на партии разбили. / (А впрочем, так же, как и весь народ.) / Мои друзья приписаны к Сабиле, / а у меня – Чулаки верховод». Тут названы фамилии руководителей местных писательских организаций – «русской» и «еврейской», по тогдашнему обиходному и более чем условному выражению. Союзы действительно враждовали, между тем как отдельные представители могли и дружить, но как бы то ни было, вспоминать конкретные случаи этой вражды – в свете пережитого – сейчас как-то неловко. Вроде бы и не вспоминают. Может, и правильно.
Еще раньше, в застойные времена, которые мне довелось застать, самым бранным словом в творческой среде была «конъюнктура». По крайней мере, в Ленинграде это хорошо чувствовалось. Это касалось и литературы, и живописи, и кинематографа. К любому художественному акту присматривались с этой точки зрения. Вот здесь и был водораздел. «Конъюнктурщик» – это репутация, неофициальный приговор. Это тот, чье преуспеяние обязано уступкам, отказу от подлинности. Сейчас, наверное, трудно представить, так же как и то, что слова «элита» и «престиж», «престижность» несли негативный оттенок.

Сергей Анатольевич Носов
А что до раздвоенности мышления – разве она не признак шизофрении? К национальному мышлению это тоже относится, поэтому сколь скоро раздвоенность есть, ее не стоит культивировать. По мне, так полезнее было бы сближать позиции, выделяя их ну хотя бы по таким бинарным принципам – подлинность/поддельность, честность/враньё, чистоплотность/жульничанье. А вот что касается всего конъюнктурного с обеих сторон – это на периферию внимания.
«ВН»: – Как охарактеризуете сейчас свою «идеологическую» принадлежность вы?
– Как-то писал о «национальной идее» (был вопрос мне), сформулировал ее так: борьба с обстоятельствами. Отшутился как бы. Но не совсем. И чем дальше, тем больше вижу, так и есть: привычка у нас такая создавать себе трудности, какие сами же преодолевать будем. Сейчас многим вспоминается досадное прошлое: эх, да если бы тогда не… Но откуда же эти «не» берутся одно за другим? Тут уже не до шуток.
Вот страна, она огромная. Если распадется, как немало кому хочется, достанется каждому. Будь ты кем угодно, да хоть анархистом, отрицающим государство как таковое, но должен понимать, если Россия распадется на «самостоятельные» территории, без войн и усобиц не обойдется, и тебя это лично, персонально коснется. Пускай банально звучит, может, и не стоит говорить об этом, а на иной взгляд, невозможно такое, но тот, кто жил в 91-м, знает – возможно всё. Да тут и никакой идейности нет, никакой «идеологии», просто речь о самосохранении обыкновенном. Мы какие есть, такие и есть, и никуда не деться от этого. Вопрос не в том, хорошо оно или плохо, в другом: какие есть – наша судьба, вопрос физического существования, надо же понимать это.
Москва, 90-е. Фото: Gettyimages
«ВН»: – В начале 2000-х вышла ваша книга «Член общества, или Голодное время». Критики назвали ее лучшей книгой о 90-х. (Не кто-то, а сам Юзефович.) Сегодня многие проводят параллели с тем временем. Тоже война на границе. Тоже теракты. Тоже генералы критикуют власть и друг друга. Вы как эксперт по лихолетью согласны с такой аналогией?
– Внешних совпадений можно найти много, и все-таки – нет. По ощущениям, это совсем другое время. Что такое 90-е? Вы выходите, допустим, на Невский и видите пенсионерку, продающую с лотка порнографические журналы. В обшарпанном киоске вашему вниманию предлагают спиртосодержащую жидкость, паленую водку. По лицам прохожих вы догадываетесь, что они медитировали перед стеклянными емкостями с некипяченой водой, заряженной телевизионным психотерапевтом. К вам подходит беспризорник (90-е – это время беспризорников) и просит, нет, не денег, но купить еды – вы идете с ним в магазин и покупаете ему молоко, хлеб, печенье. В магазинах, кстати, все есть (начиная со 2 января 1992) и нет очередей: дорого. Каждый объект, каждая деталь – от бетонного забора, обклеенного объявлениями, и до малинового пиджака на «новом русском», что вылез из своего «мерса», – всё кричит о принадлежности конкретно этой эпохе. Вы на каждом шагу чувствуете дыхание разлада.
А что сейчас? А все хорошо, все замечательно. По крайней мере, в нашем большом городе. Все довольны, всех все устраивает. Реклама обещает необходимые услуги, афиши – необходимые развлечения. Ни за что не подумаешь, что где-то стреляют, берут с боем какие-то опорники, отбивают атаки и гибнут, гибнут… Такое впечатление, что никто и не знает о каких-то военных событиях где-то на юге. Что никого ничего не коснется, что и завтра будет, как сегодня, для всех этих приятных людей. Если это наш отважный ответ на санкции – что ж, тогда понимаю. Но почему-то меня это немного пугает.

Сергей Анатольевич Носов
«ВН»: – Последнее, что можно найти в интернете из ваших произведений – это роман «Фигурные скобки» («Нацбест 2015»). Одна из восторженных рецензий на книгу начинается так: «Прозаика и драматурга Сергея Носова не интересуют звоны военной меди, переселения народов и пышущие жаром преисподней трещины, раскалывающие тектонические плиты истории». С тех пор многое на планете поменялось. Я напомню читателям – в 2018 году Россия принимала чемпионат мира по футболу. (Сейчас нас даже на чужие чемпионаты по лыжам не пускают.) Я это всё к тому, что мы живем в другом мире, да и в другой стране. Вы готовите литературный ответ, рефлекс на эти исторические события? Ведь мимо такого исторического материала пройти нельзя! Какая будет следующая ваша книга?
– Следующая книга будет прозаическое переложение «Илиады», осенью, вероятно, выйдет. Это как раз про «звон военной меди». Но, наверное, ваш вопрос допустимо отнести к только что вышедшему роману. Несколько дней назад я впервые взял в руки эту новую книгу, так что она в некотором смысле и есть «следующая» за «Фигурными скобками» и прочими. Называется замысловато – «Фирс Фортинбрас», рассказ от лица актера, который в молодости сыграл чеховского старика Фирса, а всю жизнь мечтал сыграть в «Гамлете», но не принца датского, а принца норвежского – Фортинбраса, являющегося в конце спектакля с предъявлением прав на владычество, повелевающего убрать тела и принимающего аплодисменты за все представление. Действие романа, опять же, в 90-е, точнее, в 1996 году, со всеми его характерными прибамбасами, но взгляд на события дается из нашего времени. Герой по имени Кит, то есть Никита, этакий Актер Актерыч, всю жизнь играл кого-то, теряя себя самого, и вот он с некоторым изумлением обнаруживает себя в том состоянии, когда жизнь в целом проиграна. В ироническом – и, собственно, лермонтовском понимании – он, пожалуй, «герой нашего времени», увы. Но по крупному счету нашего времени – он далеко не герой.
Кстати, «пышущие жаром преисподней трещины, раскалывающие тектонические плиты истории» меня даже очень волнуют, но, может быть, не сами по себе, а своими предвестниками, гулом, который я поручаю почувствовать персонажам или стараюсь запечатлеть в языке прозы, в само́й фактуре текста. Ну как насекомые предощущают землетрясение или кто там?.. канарейки – взрыв в шахте. Возможно, это всего лишь авторские хотелки, и читатель ничего подобного не замечает, но я в голове это, бывает, держу, когда речь заходит о материях вроде той самой «музыки революции», только в нашем случае – гуле приближающихся событий и катастроф.

«ВН»: – В творчестве мы можем не замечать действительности в принципе. Но действительность в действительности требует от известных людей непременно иметь свою политическую, гражданскую позицию. Сегодня практически не осталось «нейтральных». Всех поделили на ЗА и ПРОТИВ. Как вы относитесь к вашим коллегам (да и вообще людям искусства), которые уехали из страны, которые осуждают страну, которые молчат, которые радуются, что Прилепина взорвали, что дрон в Кремль прилетел и так далее?
– Радоваться покушению на Прилепина или нападению на Кремль – это уже чистой воды патология. Но мы ведь знаем разные исторические желания, например, «поражения своему правительству в империалистической войне» и «превращения войны правительств в войну гражданскую». Это даже в школе проходили, а в институте следовало конспектировать. Можно вспомнить и девятнадцатый век: «Как сладостно отчизну ненавидеть / И жадно ждать ее уничтоженья!» Вот здесь где-то и проходит граница – на линии «быть или не быть». Что-то не расположен я к благодетельному самоубийству. И принудительной эвтаназии тоже. Пусть уж сами как-нибудь разберутся со своими ресентиментами. В остальном я никому не судья.
Просто стараюсь различать ситуации, где дело спекуляций и хайпа, а где дело совести. Разные бывают ситуации. По существу, все за мир. Все за мир, кроме тех, кто имеет доход с войны. Но к тем, кто мыслит мир в виде какой-то абстрактной обусловленности, у меня вопрос: а как вы представляете утверждение этого мира – чисто технически? Есть предложение? Ну хорошо, Россия такая-сякая, это мы слышали, а дальше-то что? Вернуться к границам 91-го? Там разберутся? Так там ведь люди живут, и в Крыму, и на Донбассе, есть ли о них мысль? Или уже совсем непонятно, что происходит?

Харьков, апрель, 2014 г.
«ВН»: – А как относитесь к литераторам, которые писательские дела отодвинули на третий план и ушли на СВО? Например, тот же Прилепин или поэт Дмитрий Артис. Есть еще писатели, которые не воюют, но ездят в зону СВО, помогают нашим бойцам, как Герман Садулаев.
– Герман не рассказывает о своей помощи, это его частное дело. Знаю Садулаева как человека совестливого и мудрого. Глядит в корень вещей и многое понимает лучше других. Общественная позиция ему преференций не приносит, скорее наоборот.
Назову из писателей Дмитрия Филиппова, мы с ним практически незнакомы, но я часто думаю о нем. Прозаик, поэт. Где-то служил в чиновничьих структурах – от брони отказался и вместе с братом пошел добровольцем. Он сапер. То есть спасатель. Спасает жизни других. Я всё, что знаю о саперах, знаю от отца из детства: сапер ошибается один раз в жизни. Я не представляю себя сапером. Рука нетверда, пальцы нерасторопны, рассеян. А он отказался от брони и пошел сапером. Вот такой литератор.
«ВН»: – Закончим тоже важным литературным вопросом. Я лет пять назад пробирался по питерским сугробам под сосульками, кажется, на Некрасова где-то. Мы с женой шли на встречу с писателем Водолазкиным, на презентацию «Брисбена». Я плохо умею справляться с питерскими сугробами, жена – еще хуже. Короче, мы выглядели недовольными. И вот под крыльцом какого-то заведения мужик ломом долбил лед – увидел нас и сказал: «Уважаемые, зайдите кофе попить». Это оказался поэт Коша Питерский, как он представился. Мы тоже представились. И он, услышав имя жены, выдал экспромт:
Алеся! – Совсем не плесень!…
И так далее.
К вопросу. Сейчас многие говорят, что культура России обескровлена. Что те, кто остался, «не вывезут». Есть ли угроза русской культуре? И что делать, чтобы она набрала силу так же, как после отплытия предыдущего «философского парохода» сто лет назад? И главное. Знаете ли вы Кошу Питерского? И сохраняется ли тот самый фантастический Санкт-Петербург прошлого, где каждый дворник – поэт, а каждый поэт – потенциальный кузнец нового национального мифа?
– Нет, Кошу Питерского я не знаю. Знаю Мальца Питерского, но это, похоже, другой.
Как-то ехали в трамвае, и тоже с женой, а там один стихи читал – представился директором Театра бомжей. В Питере бывает такое.
Обескровленности российской культуры, по правде сказать, не замечаю – может, редко из дома выхожу. Нет, большие проблемы культуры предвижу, но это в глобальном масштабе и связано с будущей капитуляцией человеческого мозга перед искусственным интеллектом. Другая песнь.

Сергей Анатольевич Носов
«Философский пароход», наверное, пропустил. И где же Бердяев, Карсавин, Осоргин, Николай Лосский?..
А насчет сугробов – это, знаете, выбор петербуржцев. Несколько лет назад они отказались от реагентов, убивающих обувь, в пользу гололеда и узких тропинок в снегу. Вы передвигались по улице Некрасова. Года два назад вышел коллективный сборник рассказов «Улица Некрасова», составитель Вадим Левенталь, – как раз про особенности этих мест. У меня там рассказ «Эксцесс» напечатан: герой неожиданно для себя переживает нечто. Это я к тому, что Петербург остается местом, по-прежнему порождающим мифы, но только их очертания пока что туманны.