
Как это ни странно, Александру Проханову редко задают вопросы о литературе – все чаще о политике, русском мире, последних новостях. Журналисты рады метафорам, которыми невзначай сыплет писатель, словно трясет какой рог изобилия. «Световод русской истории», «Горящая птица улетела из Путина», «Россия – храм на холме» – готовые заголовки для статей. Но этот журналистский интерес к актуальному (читай «сиюминутному») в ущерб главному – скажу я вам по секрету – всегда Александра Андреевича раздражает и злит. Эмоций он не показывает, но нетрудно догадаться. Такое положение дел действительно никак нельзя назвать справедливым. Зачислять писателя в «эксперты», в газетные комментаторы – явно опрометчиво. Ведь автор «Господина Гексогена» в свои 83 года продолжает оставаться одним из самых плодовитых и публикуемых русских литераторов. Только в начале года вышел его «ЦДЛ», а Проханов уже готовит новую книгу. Что заставляет его так активно работать? Кого он считает своими учениками? Кому адресует свои романы? Предстоит Серьезный разговор.
«ВН»: – Александр Андреевич, столкнулся с проблемой – не могу найти в магазинах вашу последнюю книгу «ЦДЛ». Где ее искать?
– Я не распространитель книги, я писатель. Но я знаю, что она имеет очень хорошее расхождение. Она вышла меньше даже месяца назад, и ее распродали магазины. И поэтому идет допечатка тиража.
«ВН»: – А вы мне как-то говорили, что книги плохо продаются!
– Они действительно плохо продаются. И то, что разошелся тираж, это не значит, что книги хорошо продаются. Если бы это был 50 000 тираж, который бы в магазинах разошелся, я бы сказал: «Да! Это хорошо». А это разошелся небольшой тираж. Но есть огромное количество писателей, и хороших писателей, и поэтов, которые вообще не могут распространять свои книги. Это драма сегодняшней культуры.
«ВН»: – Я как-то общался с издателями поэзии из очень небольшого издания. Там абсолютно смешные тиражи. Как вы думаете, почему именно поэзия сегодня так непопулярна?
– А потому что из сегодняшнего сознания ушла вот эта божественная гармония. Сегодняшнее общественное сознание смотрит вниз. Оно смотрит не на звезды, а смотрит на землю: куда бы зарыться или какую бы грядку вспахать, чтобы редиску посадить. Или на тропе найти кошелек. А поэзия смотрит в небеса. Поэзия – это, конечно, божественный дар, который может одухотворить все самое низменное, все самое приземленное. А запроса в нашем обществе нет. У государства нет запроса на литературу и на культуру. Оно обходится без них, довольствуется крупными корпорациями и инвестиционной своей деятельностью, то есть деньгами. А то, что за пределами денег, это непонятно государству, может быть даже враждебно. И в литературе всегда возникают смуты. Все русские движения, в том числе революционные, возникли не в политологии. Они возникли сначала в литературе, оттуда они двигались в народ. Оттуда они двигались в толпы людей. Со страниц толстовских произведений, где он проповедовал непротивление злу насилием, вырвались эти разъяренные революционные матросы, которые взяли штурмом бастионы гибнущей империи. Этим я объясняю такое печальное, жалкое состояние сегодняшней литературной среды.
«ВН»: – Вы говорите об уровне писателей или об уровне именно среды?
– Я имею в виду следующее: я ни в коем случае не могу посягать на современных художников. Я мало читаю, к сожалению. Я не знаток сегодняшней литературы. Я просто вижу и убежден, что много восхитительных художников сейчас. Но культура – в данном случае литература – не ограничивается отдельно взятыми произведениями. Должна быть еще среда, в которой эти художники творят. И появляются эти шедевры. Это как в космосе: есть же тайные волны космические, излучения, гравитация. И в недрах этой гравитации живут планеты. Они образуют солнечные системы. Если бы не было этой среды, этой гравитации, то все бы разлетелось. Они бы были одинокие и никчемные, обреченные на погибель. Так и в культуре. Этой таинственной космической субстанции нет, она эрозировала. Поэтому каждый художник существует отдельно. Эту среду даже трудно отобразить, но она включает в себя площадки, на которых происходит обмен мнениями, полемика культурных форм. Ведь литературные формы – это во многом идеологические формы. Даже если там нет прямой политики и идеологии, то эстетики сами по себе – они идеологические. Так вот, нету арбитров, нету критиков, нету модераторов, которые бы пригласили вот эти художественные произведения на такое ристалище. Может, это слишком громко сказано: на такую площадку, где бы они были выстроены в иерархии, сопоставлены одно с другим. Это и есть литература – непрерывный, бурный обмен ценностями.

Я помню советское время. Эти ценности грохотали, сверкали. И было интересно жить в этой среде. Среде, где существовало целое направление «деревенской прозы», огромное, великое, со своими адептами, со своими критиками, со своими журналами, как «Наш современник». Или трифонианская «городская литература», тоже удивительная в своей изысканности, она имела своим прибежищем журнал «Новый мир». А сейчас этого нет. Все журналы исчезли, они скукожились. Большинство из них либо ушло в цифру, либо вообще исчезло. И литература находится на периферии, она не нашла своего места. Сергей Шаргунов хочет создать общий литературный мир. Замшев, получив «Литературную газету», стремится сделать «Литературку» полем, не полем брани, а таким состязательным полем, куда можно будет выйти и увидеть другого, выслушать его и насладиться им. Поэтому я и говорю, что литературная среда очень печальна.
«ВН»: – Вы как писатель добились всего. Премии, слава, место в истории – всего? Если оглянуться, кто был причастен к этому успеху? Кто оказывал протекцию?
– Я обязан своим появлением в мире литературы Юрию Валентиновичу Трифонову, он увидел мой рассказ, один из первых, который я опубликовал в «Литературной России». Он позвонил мне, просил собрать все, что мною написано. Он все это отнес в издательство, была издана книга первая моя – «Иду в путь мой». Он для этой книги сделал предисловие. Я по-прежнему считаю его благодетелем. Слово «протеже» – этого мало. Он благодетель. Он ввел меня и в издательский процесс, он познакомил меня с писателями, с художниками. А его предисловие, его слова – дали моей книжке первое такое реноме. Я его считаю своим таким благодетелем. Хотя мы разных совершенно направлений. Он социальный писатель, который мучился по поводу репрессий и ухода советского сознания в сторону от раннемолодого ленинизма в сталинизм. А я, вот видите, являюсь православным сталинистом. Тогда я еще так не мог сформулировать свое мировоззрение. Но мы были очень разные.
В дальнейшем никто особенно мне не протежировал. Просто мои работы находили отклик. Мои поездки на эти удивительные заводы сибирские, где, по существу, решалась судьба времени. Где сталкивались огромные характеры, темпераменты, где старый Тобольск, древний, сталкивался с мощным могучим комбинатом. Это была удивительная пора столкновений. А потом возникла военная моя стезя, где я был в центре Кабула. Меня награждали, поддерживали – печатали эти вещи огромными тиражами. Но по существу Трифонов был для меня благодетелем. А образцом для литературного поведения был для меня Шолохов, который однажды пригласил меня на свой день рождения в Вешенской. И я видел, как велик этот уже уходящий из жизни хрупкий человек. А вокруг него на дне рождения грохотали какие-то гигантские персонажи, секретари Союза, секретари ЦК, секретари горкомов, обкомов, начальники военных округов. А он маленький сидел с такими блаженными глазами, а они вокруг него водили хоровод. И я понял тогда, что такое – когда писатель становится эмблемой государства. Так же, как Волга, например, или Байкал.

«ВН»: – Он ведь невысок был ростом, Шолохов?
– Он был невысок ростом. Но в этот день рождения он просто не вставал из-за стола, он уже был слаб. Он сидел за столом, и по его лицу, по его седым усам катились слезы. Потому что пришел его друг, Закруткин – писатель, казак тоже. И они перед этим как-то повздорили. И Закруткин чувствовал свою вину. Он вышел среди застолья, попросил прощения и спел поразительной красоты казачью песню. Я не помню ее мотив, ее слова, но там была такая поэтическая метафора: что соловей по чужим садам летает, поет в чужих кущах, но пора бы ему вернуться домой. Ведь казак все время мечется по чужим войнам, а пора вернуться. И когда он пел, Шолохов плакал. Я смотрел на этих двух людей замечательных, двух писателей, двух казаков донских. Они сидели и плакали. И конечно, этими слезами Шолохов и прощал Закруткина, и может быть, он прощал всех нас.
«ВН»: – Какой это был год?
– Это было сразу после моего возвращения из Афганистана. Весна 1980 года. Это было после моей первой афганской поездки, поэтому он и пригласил меня: почитал мои репортажи, они показались ему очень важными. Он захотел со мной познакомиться.
«ВН»: – Вам удалось пообщаться?
– Очень слабо. Потому что было огромное толпище. Потом он был слаб, и не было мгновения с ним даже слово сказать. А когда вечер уже завершался, он сидел за столом и держал в руках рюмочку хрустальную, наполовину наполненную коньяком. И все бросались туда, чтобы чокнуться с ним. И я думал, что они его затопчут, как стадо бизонов каких-то или слонов. А когда все уже отчокались и повалили валом наружу к своим машинам и к самолетам, ко мне подошел один секретарь Союза и говорит: «Ну чо ж ты? Подойди, чокнись с Шолоховым». И я встал, подошел и чокнулся с ним. И услышал этот тихий звон наших хрустальных рюмочек. И до сих пор я его помню. Для меня этот звон был таким крещением, или освящением что ли.

«ВН»: – Вам ведь уже было за сорок. А так чутко вы все воспринимали?
– Ну если писатель перестает чутко воспринимать, он идет в углекопы или становится секретарем Союза писателей. Писатели – они чувствилище. И по мере писательского становления писатель открывается все больше и больше. И в конце концов он должен дожить до возраста, когда ему открываются главные смыслы существования, его и его страны, может быть и всего человечества.
«ВН»: – А нет ли у вас протеже? Есть ли такие писатели, о которых вы хотелось бы позаботиться?
– Такая забота существует у меня, конечно. Но скажу вам, во-первых, у Трифонова такая потребность была достаточно легко реализована в этой культуре. Сейчас очень трудно найти издателя, который бы этого писателя, если он молодой, взял к себе. И потом вести его, патронировать тоже негде: нет журналов, нет изданий литературных. Хотя газета «Завтра» – раньше газета «День» – позволяла мне участвовать в литературных процессах. И сейчас я очень дорожу одним нашим сотрудником, моим младшим другом, который живет в Оренбурге, это Михаил Кильдяшов. Такой изысканный человек, художник, поэт, философ. Знаток русской религиозной философии. Он защищал диссертацию по Флоренскому. И все его работы, которые он пишет нам, и стихи, которые печатают, и критические его суждения – мне очень дороги. Я ему как могу помогаю. Я его печатаю и всяческим образом вдохновляю. Он для меня является таким художником, к которому я близок. Которому я, говоря вашим языком, патронирую.
«ВН»: – Захар Прилепин называет вас своим учителем. Ваш ученик?
– Я прекрасно отношусь к его книгам, участвовал в презентации одной из самых лучших ранних его работ «Санькя», ездил туда к нему, в Нижний Новгород. Познакомился с ним, мы общались, говорили, гуляли вместе. Что касается того, что он мой ученик, – не знаю. Если ему так кажется, пусть он так и думает. Но сам я не знаю. Если так оно и есть, то слава богу. Он это уже много раз говорил. И я ему очень благодарен за то, что он чтит седины писателя предшествующего поколения. Но это не значит, что это ученичество. Я вот сейчас открываю Твардовского «Василия Тёркина» – и я восхищен. Но я не могу сказать, что я ученик Твардовского. Просто есть отклик, живой и страстный отклик на чужое дарование, на чужое откровение. Думаю, так и происходит со мной и с Прилепиным. Мне очень дорого, что он так считает. Это значит, что мои работы, моя эстетика, мой путь кажутся ему очень важным и дорогим. Мне кажется, он говорит, что на него очень сильно влиял Лимонов. И в этом смысле, может быть даже, Лимонов в большей степени является его учителем, чем я.
«ВН»: – Лимонов, возможно, политический больше учитель?
– Нет, Лимонов совмещал в себе художество с политикой. Эти две темы были у него нераздельны, неразрывны. Он политические свои устремления оформлял в эстетику. И он создавал такие ситуации, в которых его личность, его персона каждый раз оборачивалась новой гранью, и описывал это. Политика шла впереди, он гнал впереди политику. А потом следовал за ней вместе со своим блокнотом, с мольбертом и писал себя каждый раз в новой ситуации. Лимонов был таковой.
Мне кажется, что у Захара есть такая очень мощная, прекрасная возможность. Он ступил на политический путь. И как бы ни кончилась эта его история с партией (я надеюсь, она кончится положительно), в любом случае для него как для писателя это будет удивительный опыт. Он благодаря этому вошел в такие слои, которые для других закрыты. Он переживает состояние, которое для других невозможно. Камерность, в которой пребывает большинство художников, у него заменяется идеей служения государственного. Непрерывные схватки политические, которые идут в обществе, для него превращаются в государственное дело. Поэтому то, что сейчас происходит с Захаром, я думаю, имеет очень большие творческие последствия, перспективы. И этому я радуюсь.
«ВН»: – Александр Андреевич, над чем вы работаете сейчас?
– Знаете, я вот только что кончил две эти больших работы, может быть, самых дорогих в моей жизни. Первая – роман «ЦДЛ», о котором я сказал. Это моя среда, это среда, которая меня воспитала. Этот роман рассказывает еще и о том, как по писателям прошелся разрез 91-го года, как писательский мир участвовал в этой хватке идеологической. Я рассказываю о том, как я был включен в эту схватку. Я же был глубоко погружен во все это. И я исходил из своего опыта, как писатель, художник воспринимал тогда этот чудовищный распад и гибель страны. А сейчас я закончил вторую книжку только что, она называется «День». Я рассказываю о газете «День», которую я возглавлял и которая существовала до 93-го года, до катастрофы с Домом Советов. Там тоже была масса интересных явлений, как мы не сдавались, пронесли сквозь пожарище те ценности, которые сейчас, в более спокойное время, взращиваются государством и обществом. Вот две книги, которые являются по существу двухтомником, одна продолжает другую: «ЦДЛ» и «День».






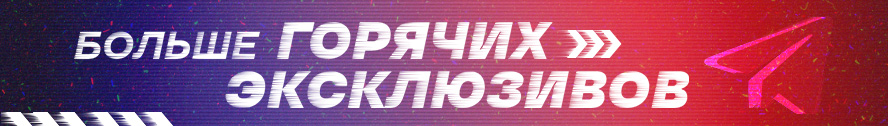
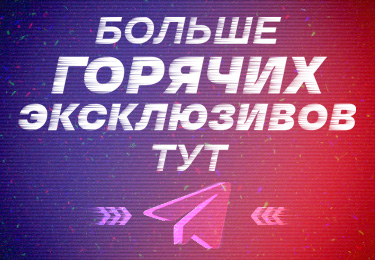











![Ученик казанской школы: «Одного выводили, а второй [умер]»](https://vnnews.ru/wp-content/uploads/2021/05/kazan.jpg)