«...ТО БЫЛ ЕГО КРОВ, ОПОЗНАВШИЙ ЕГО КРОВЬ»
«Тума», как и автор его Захар Прилепин, – есть абсолютная точка сборки
Дочитала до конца «Туму» Захара Прилепина – и зависла в растерянности: точно не к концу подошла, а к началу, словно всю реку могучую от истока до устья проплыла и встала, замерев, пред морем распоясным, пред суровой и манящей, крепко солёной водой, кормящей и землю, и небо, и свет Божий, и тьму Его. Успею ли дух перевести до выхода следующей книги из заявленной Захаром разинской трилогии – не знаю!
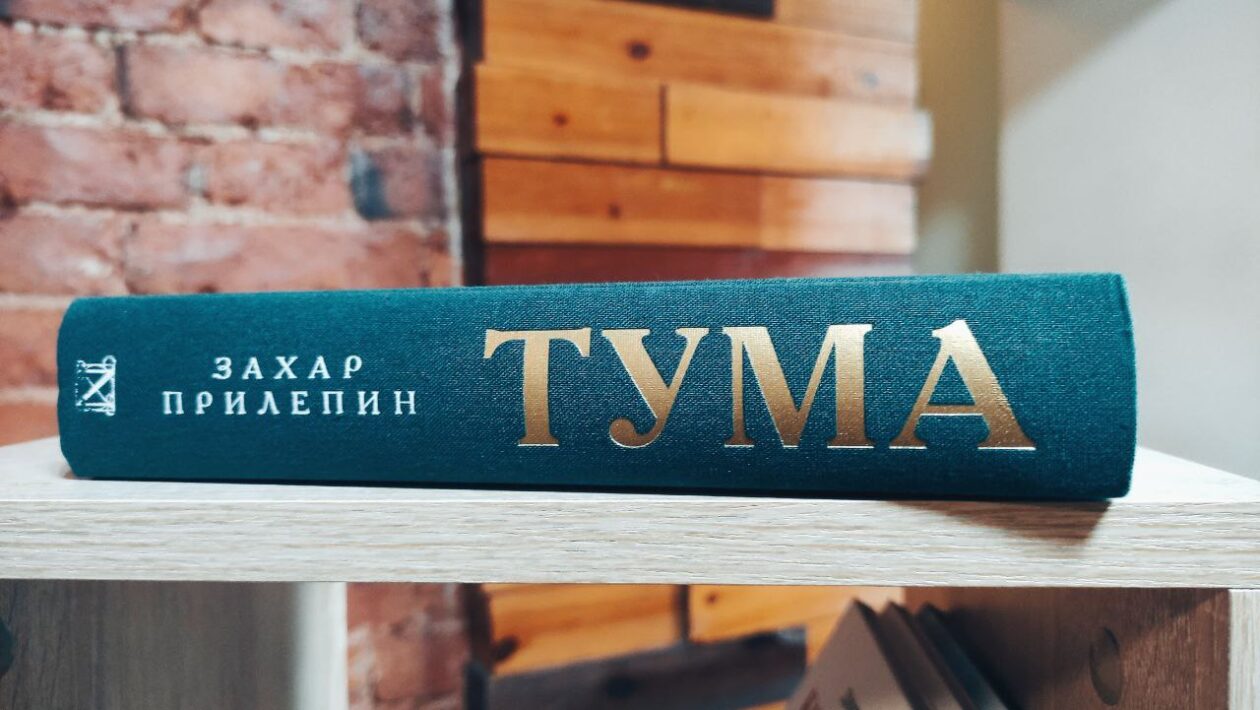
Стою – а в голове проносятся отрывки из романа картинками, фразами, запахами, песнями… и брызгами кровавыми, и кусками тел вражих да казачьих. И воды Дона будто несут меня куда-то… и кричит скотина… и девицы купеческие московские скалятся зубами чёрными… и чайки беснуются соловецкие… и гульба идёт…
А вот пляска сечевика Бобы – и не удержусь, процитирую:
«…Боба плясал так, словно его грязные ноги сошли с ума, и теперь их надо было поймать и приручить. Плясал так, словно и руки его отвязались и могут, друг друга не помня, вертеться вкруг человека в погоне то ли друг за другом, то ли за ногами. Плясал так, что вокруг закончился воздух, и дышать было нечем, и лишь восторженные слёзы текли у Матрёны, окончательно простившей сечевикам за пляс Бобы – всё.
<…> Боба плясал так, будто оставил плоть свою, чтоб она его впредь не тяготила.
Плясал, словно не двор тут был, а степь раскинули вокруг.
Будто вся Сечь – и мёртвая, и живая – плясала и трясла тысячей гремучих костей в нём.
Будто в дерево ударила молния, и оно, пылая, побежало, сыпя искры.
Легчайший, взлетел на стол.
<…> Оселедец носился за головой Бобы, как сбесившаяся оса с мохнатым хвостом.
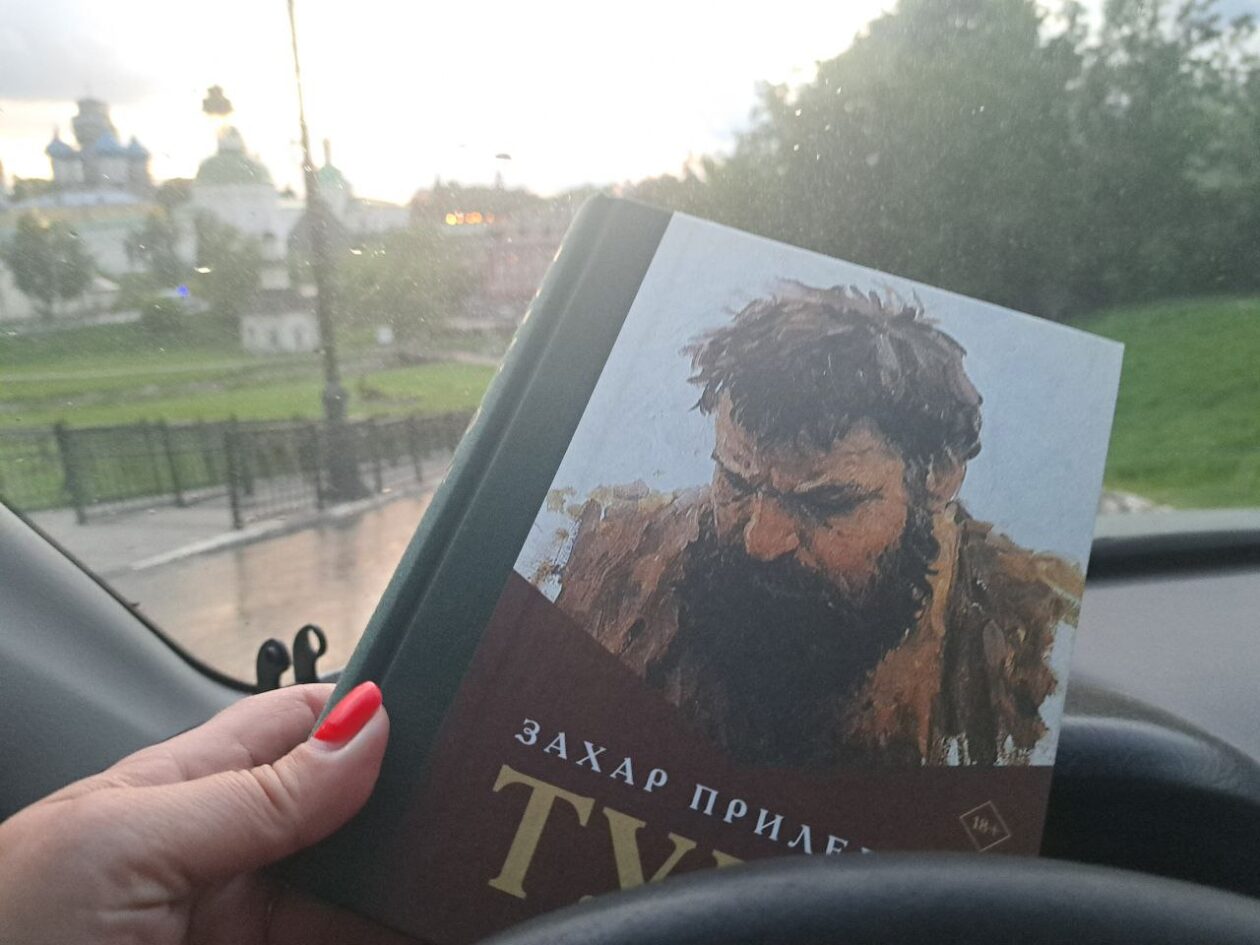
Растаращенные глаза его на бешеном круженьи едва не выпадали из глазниц, но даже если б выпали – при новом крутом развороте влетели б ровно обратно.
Зато зубы его были сжаты – оттого, что если в таком прыжке ненароком хлопнешь пастью, так и язык перекусишь.
<…> При том музыканты делали вид, что к игре не имеют отношения, а всего лишь открыли заслонку – и песня вырвалась, как огонь. Не отвлекая и толики внимания от Бобы, закатив глаза, творили они веселье, как слепые, хотя всё и всех видели: и хозяев, и собрата своего, который крутился, казалось, посреди стола на одном мыске, а потом легко, не расплескав вина в чашах, перекидывал себя на другой мысок – в три стороны выбрасывая сразу то ли две руки и ногу, то ли две ноги и руку, то ли три ноги сразу.
И вот уже, с налитой кровью багровой головой, он подпрыгнул едва ли не выше куреня, а с ним все чашки на столе, как одна, в лад, – и претяжёлым камнем рухнул, приземлившись на колено и сжатую в кулак десницу – словно не со стола, а с неба упавший. И рука его вошла в песок по самое запястье».
…Вы хоть раз читали подобное, или видали, может? Разве ж танец это в обычном нашем понимании?! Нееет! То образ – а вернее сочный шмат мясной – казачьей жизни, поведения, юмора харАктерного, нутряного, житейского – но и небо цепляющего чутья звериного, пляс судьбы, само-гон до самозабвения.

Захар Прилепин. Фото: Александр Щербак/ТАСС
Кстати… Всегда, когда раньше смотрела на гопак – в исполнении ну очень крутых танцоров и ансамблей – всегда восторг мешался во мне с жаждой и предвкушением, что вот ещё чуток, ещё взмах и глоток – и они выйдут из себя, за пределы поставленного и выученного – рванут себя за чубы или ещё за что и вылетят в степь, в дикое поле, в круг казачий, в пляс на грани спора-драки-брани-бойни, на мысочке зависая меж мирами, векАми, жизнью земной и вечной, меж своими и чужаками в пограничье..!
Ну а теперь главный мой «тумачий» вопрос: как такое можно так описать? – я сейчас и про пляску Бобы, и про весь роман – если самому это всё не увидеть, не отпустить себя в свою память: родную, родовую, народную, во все ветви, прожилки, листья и корни древ многовековых. Захар явно отпускал себя: (ведь книг начитаться и песен казацких наслушаться – мало!) как и Разин его – «имал» память… и предки вдруг отзывались, будя друг друга и вспоминая, вспоминая – и даже не рассказывали, а словно приоткрывали завесу, и Захар видел то одно, то другое – и наспех записывал всё. Причём «наспех» – не значит небрежно! А то есть единственно возможными словами, восклицаниями и даже звукорядьем непонятным – которое на поверку оказалось иноязычьем, транскрипциями фраз чужой речи, иных языков.
Да и русский там порой такой ядрёный и неприпомаженный, неотёсанный, за самые муди, прости господи, берущий! А как иначе? Современному русскому, увы, не зацепить и не выразить ту жизнь дикУю и ярую – соскальзывает с языка!
****
А вот растерзанный Степан… – уж больно похожий на разъятую, истерзанную и будто обглоданную со всех сторон Россию 90-х, постсоветскую, постимперскую.

С. А. Кириллов. «Степан Разин» (1985—1988) / Википедия
Но вместе с исцелением Разина – как будто врачуется и собирается воедино и наша земля, много наших земель исцеляется-возрождается. Степан и только вроде в человеческий вид приходит – и вот тебе: новые испытания, яма, хлад, глад, гады ползучие (и змеи, и люди – что как нелюдь) – но оказывается, что и такое можно вынести, выдюжить и не сдрябнуть душой, а наоборот…
И конечно – Захар не себя и свои страдания описывает в Разине, нет: но его личный трагический болевой опыт пересобирания, срастания тела и духа – дал ему возможность и право взять этот ключ для открытия и откровения героя и времени через муку почти убитого и пленённого казака Степана.
«Мука беспокоила его, как чадо, не насосавшееся молока. Он кормил муку собою, будто со стороны видя себя. Не жалел и не плакал о плоти своей. Грелся о муку, как о печь».
***
А вот и татарин Тутай нарисовался у меня перед глазами – чем не образ врага на все времена, умеющего играть вдолгую: и крестился, и боями-походами-спасеньями проверен – но однажды – хрясь! и сдал Разина (не абы кого!) на растерзание басурманам и в плен, в стыд.

В. И. Суриков. «Степан Разин» (1908) / Википедия
***
И, конечно, особый интерес для меня в «Туме» – в житейской и военной смётке, хитроумии Степана и других казаков, и не только казаков. Столько в романе сложнейших ситуаций и взаимоотношений разного уровня: и как кто себя поведёт? как выкрутятся достойно? что скажут-ответят? как выжить и сдюжить смогут?..
И там такие «уроки русского» – мама не горюй! Актуально многое на века вперёд (думаю, что ещё и в борьбе с искусственным интеллектом людям однажды пригодится).
Ну и в завершение письма сего безапелляционно заявляю: роман «Тума», как и автор его Захар Прилепин, – есть абсолютная точка сборки, перекрёсток и перекличка родни: людей очень разных, но словно породняемых Захаром и его Разиным, нашей историей, памятью, корнями – личными и общими.
Точку не ставлю – ибо конца России не вижу, нет его и, надеюсь, не будет, пока есть такие герои и книги.
Автор: Людмила Зуева