Думы о «Туме» Захара Прилепина
Литературовед из Грузии Тамара Котрикадзе
«…И шедший наклонился. И в водном зазеркалье –
не то лицо Захара, не то лицо Степана…»
Ульяна Полынина.
Наконец дочитала роман. Конечно, его стоит перечитать не раз и не два, если хочешь уловить все нюансы – текстовые и смысловые. Объем огромный (и это лишь первая часть трилогии!), произведение сложное, многоплановое – так что, как бы вдумчиво ни читал, с первого раза всего не охватить. При всей сложности ткань текста очень лёгкая, кажется: дунь – и всколышется, вздуется в воздухе парусом. Если читать вслух – должно получиться очень складно, благозвучно (пока не пробовала); и это – при всей сюжетной тяжести, моментами невыносимой.
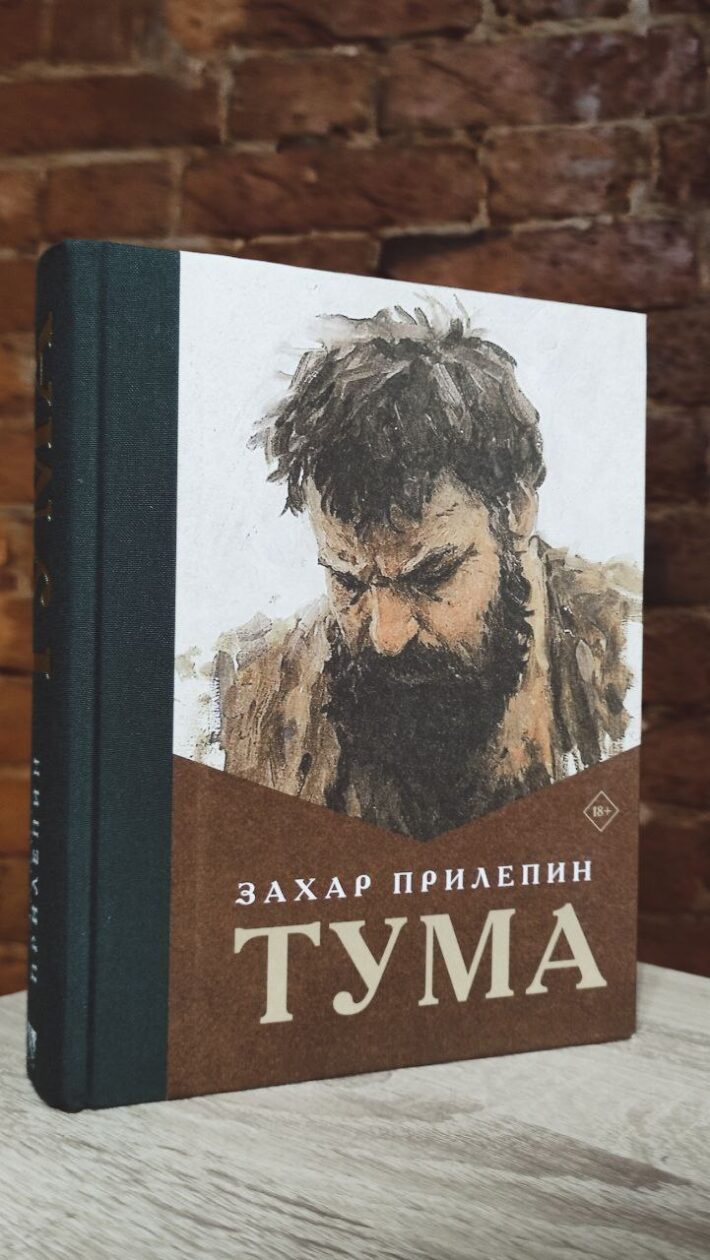
Мне безумно нравится прилепинский мифический реализм, добротное историческое повествование с вкраплениями потусторонних явлений (мертвые казаки и предки, являющиеся живым): мир романа целен и гармоничен, а временны́е границы порой зыбки.
Много было отзывов на этот роман. Из прочитанных мной полностью согласна с кратким и емким отзывом Евгения Николаева, поздравившего русского читателя с новым русским «эпосом периода постраспада» («эпохи сборки», как выразился поэт Влад Маленко). Да, роман явно имеет глобальную и всеобъемлющую цель: на очередном историческом этапе оглянуться вокруг и понять, что представляет собой Россия и русский человек. Роман историософский (опять же, согласна с Евгением Николаевым). Не еще один роман о 17 веке и Степане Разине, а Роман о России на все времена, о главной её сущности, перекипевшей, выкристаллизованной в Русский Миф. И в этом смысле его нужно рассматривать в свете ницшевской концепции о «вечном возвращении» или архетипов по Юнгу: одни и те же русские типы и типичные ситуации повторяются из века в век в бесконечных вариациях.
Евгению Николаеву, определившему литературную преемственность романа «Тума», назвав его «»Тарас Бульба 2.0″ про солнечных великороссов», можно верить на слово, когда он отождествляет донских казаков, описанных Прилепиным, с донбасскими ополченцами – ведь он, человек с позывным «Гайдук», не просто читатель, а, можно сказать, соучастник событий романа (на днях его ранило, желаю ему скорейшего выздоровления!).
***
Первый вопрос, который, думаю, неизбежно возникает у читателя романа «Тума»: зачем так много и так подробно описаны жестокости, расчленённые трупы людей и животных, зверства и насилье? Казалось бы, понятно, что любые параллели с современностью в данном случае нужно проводить с поправкой на 17 век, на нравы, религиозные воззрения, виды оружия и военную технику той эпохи. И это, безусловно, так. Однако дело тут несколько сложнее, и, конечно же, автор не наслаждается описанием всей этой жести.

С. А. Кириллов. «Степан Разин» (1985—1988) / Википедия
Цель у него вполне конкретная: показать, что разницы между той и нашей эпохами по сути никакой и нет, а прогресс и цивилизационное развитие – лишь иллюзия. Прилепин в каждом таком с беспощадной филигранностью обрисованном эпизоде как бы обращается к читателю: «Смотри, внимательней смотри. Тебе хочется отвернуться, пробежать мимо, а я заставлю тебя остановиться и вглядеться. Если бы жестокости остались в прошлых веках, о них, пожалуй, стоило бы забыть… Но вот это, то, что я тебе показываю, происходит в наши дни на Донбассе, на Украине, и происходило из века в век в той или иной, а чаще одновременно в нескольких точках планеты. Да, сейчас не рубятся шашками и не сажают на кол, но тому, кто видел последствия прилета «Хаймарса» в жилой дом или место скопления народа, 17 век уже не покажется дикой древностью…»
Казалось бы, автор рисует нам совершенно беспросветные картины кромешного ада и хаоса. Но это не так. Помимо множества «позитивных» картин умиротворения, героизма, радости и веселья человеческого общения, фирменного прилепинского молодецкого юмора, наконец, – даже в душераздирающих моментах мы чувствуем мудрую упорядочивающую силу и правоту этой силы, пусть не менее жестокой, чем сила неправая. Вот юные Иван и Степан Разины вместе с другими казацкими семьями скрываются от ногайского набега в камышах на реке (кстати: тут прилепинский читатель испытывает некое дежавю: в книге «Шолохов. Незаконный» юный Шолохов так же на время уходит с односельчанами, когда бои гражданской войны подходят вплотную к его станице.).
В опасной близости врагов на руках у казачки начинает плакать грудной ребёнок, и дед Ларион Черноярец – донской старожил, воплощение казацкой доблести и мудрости, – вырывает ребёнка (своего внука!) из рук снохи и топит его в реке. Как и другие подобные эпизоды, прописано это кинематографически, так что, раз прочтя, забыть это невозможно. И понимаешь жестокую правду этого мира, где слишком часто приходится делать выбор между бόльшим и меньшим злом, бόльшей и меньшей жертвой: ребёнок, еще не успевший стать личностью, жертвуется ради спасения всех, сидящих в лодке. Позднее, при описании восстановления разорённого набегом казачьего городка и возвращения к мирной жизни, автор, походя, как бы между прочим, показывает нам ту казачку, которой тогда на реке дед зажимал рот: она «уже ходит брюхатая другим». Та же ветхозаветная беспощадная справедливость движет казаками при разорении ногайского улуса, кочующего по степи с семьями и скотом: этот народ живёт набегами и грабежом и поэтому подлежит истреблению.

Степан Разин бросает персидскую царевну в Волгу. Иллюстрация из амстердамской книги 1681 года. / Википедия
Изнеженный либеральным мировоззрением читатель воротит нос от всего этого, выступает за всё хорошее против всего плохого, отказывается от мироустройства, купленного ценой «слезинки ребёнка» (чаще всего ею спекулируют как раз таки те, кому никакого ребёнка на самом деле не жаль), но опыт последних 30 лет уже научил многих из нас, наивных совков, к чему приводит подобный идеализм. И это не значит, что русские от природы жестоки и «хотят войны». Это значит, что в этом падшем мире приходится отстаивать свои ценности в бою: не ты, так тебя… Одним словом, Прилепин приучает нас к мысли, что война – в глобальном, метафизическом смысле – будет долгой. «И вечный бой, покой нам только снится…» Недаром тот же Евгений Николаев называет «Туму» «производственным романом об СВО».
А чтобы читатель не чувствовал себя слишком одиноким и чужим в окружении лихих казаков, автор вводит эпизодического персонажа, оттеняющего остальных, – рекрута с русских земель, которому пришлось побывать вместе с казаками в битве под азовскими стенами. В пространном монологе горе-вояка живо и потешно рассказывает, какого страха он натерпелся и как его выворачивало при виде истерзанных трупов. Этим автор как бы говорит: испытывать с непривычки страх, ужас, отвращение в бою – нормально и естественно. С таким персонажем читателю легко себя отождествить (он для того и создан), но, если честно, не хочется: неинтересно. Поэтому в круговороте событий и лиц он появляется на миг и исчезает навсегда.
***
Второй острый вопрос, возникающий при чтении: почему в романе так много параллелей и отсылок… нет, не к книгам других авторов о Разине а… к прилепинской «Обители»? Казалось бы, что общего между этими романами? Разные эпохи, разные герои, разные места действия – кроме одного. Но именно оно, видимо, осуществляет состыковку и делает художественный мир обоих произведений моделью России как таковой и её исторической судьбы. Место это, конечно же, Соловки. Наверное, много сказано и написано о том, что этот локус идеально подходит для вышеупомянутой модели именно в силу сочетания в нём святости и жестокости. В «Обители» упоминается и паломничество Степана Разина на Соловки, и св. митрополит Филипп, подвизавшийся здесь, а после умерщвления его по приказу Ивана Грозного погребённый в этой обители. И вот в «Туме» мы читаем подробное описание паломничества юного Степана по завету отца, его трудов и молитв в стенах Соловецкого монастыря, а также становимся свидетелями страстей, развернувшихся вокруг мощей св. Филиппа. (Так величайший кинорежиссер наших дней Карен Шахназанов цитирует собственный фильм «День полнолуния» в более позднем фильме «Палата № 6», повторяя в ином ракурсе эпизод обретения нетленных мощей княжны Ольшанской близ Киево-Печерской лавры.)

Б. М. Кустодиев. «Степан Разин» (1918) / Википедия
Однако параллели между двумя романами этой состыковкой не ограничиваются. Возьмём центральную фигуру героя. В первой части трилогии Степан – еще не легендарный атаман-бунтарь. «Тума» показывает нам взросление и становление его как личности, и в этом смысле он во многом сопоставим с молодым человеком Артёмом, так же едва успевшим вступить во взрослую жизнь, прежде чем его постигла жизненная трагедия, приведшая его в Соловецкий лагерь. Сравнение напрашивается еще навязчивей благодаря тому, что сюжет воспитания героя дан как воспоминание, перемежающееся с пребыванием двадцатисемилетнего Степана Разина в азовском плену, т. е. скажем прямо: в заключении. Молодой узник оказывается таким же удачливым, как Артём, ставший чуть ли не «ординарцем» Эйхманиса: надеясь использовать его в качестве толмача, турки предоставляют ему лечение, питание, коня (правда, «на будущее»), женщину, которой он брезгует, переговорив, правда наедине (мы помним, что и Артём отказывается от женщины, заплатив ей).
Помимо удачливости, Степан, как и Артём, умеющий использовать удачно подвернувшийся случай, проявляет находчивость (помогая советами некоторым узникам) и даже некое хулиганство: то спокойное, бесстрашное остроумие, с которым Степан отвечает янычару Миньке и мюршиду, сродни многим репликам Артёма (можно вспомнить также банные венички с колючей проволокой, изготовленные Артёмом и поэтом Афанасьевым). Позже, отчаявшись склонить казака к переходу в ислам, его помещают в нечеловечески тяжкие условия, и здесь, как и на Секирке в «Обители», перед лицом неминуемой близкой гибели возникает необходимость покаяться и исповедоваться в грехах. Правда, ситуации прямо противоположны друг другу: на Секирке невероятно впечатляюще описана сцена общей исповеди заключённых под руководством двух священников, в то время, как Артём остается в стороне и с отчаянным, болезненным протестом запирается в себе, не открывает душу для покаяния. Степан же исповедуется про себя, по собственному душевному зову, но эта противоположность лишь подчёркивает параллель, тем более что в обоих случаях используются схожие художественные образы. В «Обители» с босхианским сюрреализмом говорится, что грехи выползали из кающихся, как рыбы и гады из разверзшегося чрева, в «Туме» же говорится: «Память не щадила его, но как рыба в нерест, метала грехи непрестанно». Обоим главным героям на грани смерти является видение их предков, которые спасают их ради продления рода, «чтобы ниточка не оборвалась». Можно уловить еще множество параллелей, Боже ты мой, вплоть до поющего жида («оперетка» в «Обители»)!
Понятно, такое обилие самоцитат или самоаллюзий на таком уровне писательского мастерства не может быть случайным, непроизвольным, неосознанным. Оно может быть только литературным приёмом, преследующим определённую цель. И я пришла к мысли, что цель такова: показать, что во всех основных произведениях Захара Прилепина на глубинном уровне действует один и тот же герой – alter ego самого автора, а сквозная форма прилепинской прозы – это автофикшн, не только в конкретных случаях, таких как роман в рассказах «Грех» с одноименным автору героем, множество рассказов из разных сборников, роман «Некоторые не попадут в ад», в меньшей степени – «Ополченский романс», но и масштабные исторические полотна, где автор (как и подобает живописцу) еще и помещает в уголке фигурку своего конкретного предка с одними и тем же (родовым!) именем – в «Обители» это прадед Прилепина Захар, в «Туме» – иловлинский староста Захар, предок автора по линии Лавлинских.

Захар Прилепин. Фото Сергей Бобылев/ТАСС
Естественно, каждый писатель в большей или меньшей степени одаривает своих героев собственными чертами либо элементами биографии, и всё же в данном случае этот момент кажется мне особенно существенным и основополагающим. Но главное: прилепинский сквозной автофикшн ни в коем случае не подразумевает замкнутости, зацикленности на себе, а, наоборот, беспредельную открытость вглубь Истории и вширь российских пространств, с которыми личность и биография (включая тщательно изученную и творчески осмысленную генеалогию) автора полностью гармонируют (лишь написав это, осознаю, что и по прочтении биографической книги «Шолохов. Незаконный» у меня возник импульс сопоставить фигуры и эпизоды биографии двух писателей – героя и автора, что лишь подтверждает правоту данной мысли).
Об определяющем значении фигуры Разина не только для русского народа, но и конкретно для него как писателя и общественного деятеля Прилепин говорит постоянно. То, что, описывая израненного Степана, автор имеет в виду собственные ранения после покушения, ясно с первых же строк романа. О своём неунывающем, не склонном к излишним терзаниям и рефлексиям характере Прилепин так же неоднократно упоминал в интервью. О Степане в романе говорится, что, сколько он себя помнил, всегда «просыпался в радости» и даже в плену не особо размышлял и горевал. Удачливость Артёма тоже явно коренится в цельности его характера и некой «живучести». В «Обители» есть момент, когда Артём сбривает волосы на голове и даже внешне становится похожим на автора. Некий внутренний стержень, внутренняя неколебимая сила, движущая вперёд героев и их автора, явно одни и те же.
Первый роман и, видимо, вся задуманная трилогия о Разине расходящимися на воде кругами охватывает, вбирает в себя всё, написанное до сих пор Захаром Прилепиным. Это касается и сравнительно ранних «пацанских» рассказов: отношения между братьями Иваном и Степаном моментами явно отсылают нас к описанным в рассказах похождениям юного героя-повествователя и его более старшего и бывалого «братика» (мы знаем, что прототипом этого персонажа послужил двоюродный брат Прилепина), а чёткая и спокойная манера, с которой Иван, скажем, отвечает русским ополченцам на шутливые просьбы принести снасти или поймать им рыбы – это манера пацана, умеющего постоять за себя перед чужаками, но пока что (без нужды) не собирающегося затевать драку. О сходстве с донбасскими вещами, опять-таки, предоставляю судить непосредственным участникам военных действий: уверенна, этого сходства намного больше, чем я могла уловить. Биография автора представляется нам неким цельным мегатекстом, вмещающим в себе всё написанное и еще не написанное им.

Захар Прилепин. Фото: URA.RU/TASS
***
Читатели нередко спрашивают Захара Прилепина, не собирается ли он сформулировать новую русскую идеологию – народ чувствует эту необходимость и чутьём понимает, от кого следует ждать подобной формулировки. И хотя писатель в таких случаях отвечает отрицательно, он, как и следовало ожидать, даёт нам если не новую, то единственно верную ныне идеологию, путь, ориентир, заложенные уже в самом названии первого романа трилогии. Я имею в виду, конечно же, евразийство. В этом свете важно учесть все те черты, которые автор подчёркивает в своём герое. Помимо воинских качеств, необходимых для казака (а в современных реалиях, как мы видим, и для русского и не только русского мужчины вообще), подчеркивается азиатская примесь в его крови – напоминание о том, что сущностная основа России это равновесие обоих образующих ее начал: ордынского, равно как и византийского. Не буду пересказывать, но отмечу, что именно на кровном родстве с Азией и строится главная сюжетная линия плена и освобождения Степана. «Басурмане» в данный исторический момент – враги Руси и казаков, но однажды им придется воевать бок о бок против общего врага…
(К слову сказать: сквозным лейтмотивом в упомянутом фильме Шахназарова «День полнолуния» также служит память об Орде, её корни, глубоко вплетённые в русскую сущность, хотя фильм вроде бы просто о русских людях, их личной и общенациональной памяти…)
Может быть, это сугубо моя спекуляция и автор романа вовсе не имел этого в виду, но, быть может, в свете многонациональной, многокультурной сложности русского мира (а это одна из базовых констант мировоззрения Захара) можно сказать, что тума, он же полукровка, – это вообще ключевой персонаж, с которым связаны важнейшие вехи русской истории. Это видится мне не только на уровне исторических личностей – Иван Грозный, Пётр Первый (по неподтверждённой легенде – побочный сын грузинского царевича), Сталин (конечно, не тума, но кавказец во главе Российской империи). Но, быть может, это верно и на уровне типов, образующих нацию и государство. Интересно, что один из главных персонажей трилогии Константина Симонова «Живые и мёртвые», генерал Серпилин, родом из города Тума, – татарин по матери, владеет татарским языком, более того: с рано и трагически погибшей матерью у него, так же как и у прилепинского Степана, связаны болезненные, надрывные воспоминания, чувство жалости… А ведь Серпилин – тип именно того самоотверженного, несмотря ни на что преданного Отечеству командира (ещё и несправедливо осуждённого и отсидевшего), который наравне с рядовым солдатом вывез на себе Победу. Степан Разин – атаман, «полевой командир», бунтарь – тоже один из ключевых для понимания России типажей, и наверняка этот ряд можно было бы продолжить…

В. И. Суриков. «Степан Разин» (1908) / Википедия
У меня создалось чёткое ощущение, что своим масштабным историческим полотном Захар Прилепин задумал на очередном историческом этапе дать нам такой же базисный манифест на тему осмысления загадки «России-Сфинкса», какой дал в своё время в поэтической форме Александр Блок. Да, я имею в виду стихотворение «Скифы». Ведь, по сути, в романе «Тума» мы чуть ли не на каждой странице слышим – именно физически слышим – хруст вражеского хребта «в тяжёлых, нежных наших лапах». И буйство чувств, и обилье зверств, описанных в романе, – вернее, реакция многих читателей и критиков, шокированных прочитанным, – разве не свидетельствует это о крайней степени нашей гибельной, изнеженной «европеизации»? «Да, так любить, как любит наша кровь, никто из вас давно не любит. Забыли вы, что в мире есть любовь, которая и жжёт, и губит!..» Пора, пора окончательно отряхнуть пресную засохшую корку европейской цивилизации, восстановить в себе скифское, пассионарное, исконное начало, не замыкаясь при этом в себе, не отворачиваясь от мира! Феноменальное полиглотство Разина (подчёркнутое в романе еще и конкретным звучанием всех тех языков, на которых он говорил) – так же подтверждение блоковской идеи скифства: «Нам внятно всё…»!
Разин в романе Прилепина – бесстрашный казак, будущий атаман, за которым пойдут многие – в самом деле, идеальный герой наравне с формировавшими наше мироощущение мушкетерами и пиратами, и роман «Тума» бесспорно встанет (уже встал!) в ряд тех воспитывающих, по Высоцкому, «нужных книг, которые в детстве читал».
Ждём продолжения. Спасибо Захару Прилепину.
Автор: Тамара Котрикадзе, литературовед из Грузии.